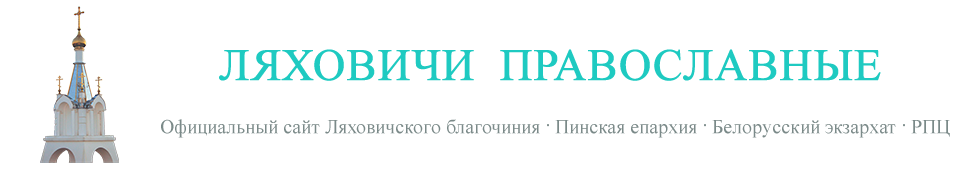В детстве Георгий Житко мечтал быть летчиком, но, закончив Ленинградское Арктическое училище, стал моряком-полярником. Воистину, пути Господни неисповедимы… Промысл Божий вел его к служению в Церкви. Сегодня у нас в гостях студент III курса МинДА протоиерей Георгий Житко, благочинный Ляховичского округа Пинской епархии с матушкой.
В детстве Георгий Житко мечтал быть летчиком, но, закончив Ленинградское Арктическое училище, стал моряком-полярником. Воистину, пути Господни неисповедимы… Промысл Божий вел его к служению в Церкви. Сегодня у нас в гостях студент III курса МинДА протоиерей Георгий Житко, благочинный Ляховичского округа Пинской епархии с матушкой.
—Отец Георгий, расскажите, пожалуйста, о ваших предках.
—Мои предки—прихожане храма великомученика и Победоносца Георгия, что в селе Великие Луки нынешнего Барановичского района. Дедушка Адам (папин отец) являлся церковным попечителем, помогал во многих вопросах настоятелю—отцу Онуфрию Петрашкевичу. Мамины родители были с ним в дружеских отношениях, пели и читали на клиросе, помогали батюшке по хозяйству. Вполне понятно, что мои папа и мама впитали веру с детства, с молоком матери. Отец мамы до Великой Отечественной войны работал агрономом и кормил большую семью. Однажды пришли из сельсовета и сказали дедушке: «Так, Степан, мы власть без Бога построили, так что выбирай—или с попом, или с нами». Дедушке было чуть более за 30, и он ответил: «Раз так, то я остаюсь с Богом». В деревне поговаривали, что его хотят посадить. Но, слава Богу, дедушка остался на свободе. В 1944 году его призвали на фронт. Моя мама, вспоминает, что когда отец уходил на войну, то всех детей перекрестил, а ее посадил на колени, посмотрел в глаза и сказал: «Не оставляй никогда храм». Так мама получила особое отцовское благословение. Ее дети пошли по духовной линии: в 1984 году моя сестра вышла замуж за выпускника Московской Духовной Академии, стала матушкой; я в 1990 году был рукоположен во иерея. Вскоре после ухода дедушки на фронт в семье родился седьмой ребенок. Позже (к концу весны 1945 г.) пришла похоронка. Погиб он около озера Балатон при освобождении Венгрии. Семья оказалась в нелегком материальном положении, но матушка отца Онуфрия старалась поддерживать сирот в трудную минуту.
 Прошло время, и в 1959 году мои родители венчались в Свято-Георгиевской церкви села Великие Луки, а в 1960 году родился и я. К этому времени папа с мамой уже жили в городе Барановичи. Через несколько лет у них родилась еще девочка. Крестили нас в Свято-Покровском храме г. Барановичи, там же впервые и причастили… Вот уже около 50 лет мои родители являются постоянными прихожанами Свято-Покровского собора. Они воспитали в вере Православной и нас, своих детей. В советское время отношение к вере и к верующим было соответствующим, но для меня и сестры наставления родителей стояли «во главе угла», были превыше всего.
Прошло время, и в 1959 году мои родители венчались в Свято-Георгиевской церкви села Великие Луки, а в 1960 году родился и я. К этому времени папа с мамой уже жили в городе Барановичи. Через несколько лет у них родилась еще девочка. Крестили нас в Свято-Покровском храме г. Барановичи, там же впервые и причастили… Вот уже около 50 лет мои родители являются постоянными прихожанами Свято-Покровского собора. Они воспитали в вере Православной и нас, своих детей. В советское время отношение к вере и к верующим было соответствующим, но для меня и сестры наставления родителей стояли «во главе угла», были превыше всего.
—Какие у вас детские воспоминания о храме, о жизни в Церкви?
—В раннем детстве родители часто оставляли меня в Великих Луках. Бабушка всегда водила в храм (мои прадеды принимали участие в строительстве местной церкви). Как сейчас помню, что в храме было много женщин в платочках. Особо запомнились иконы сорока мучеников Севастийских, великомученика Георгия. А в Барановичском храме на меня, как казалось тогда, очень внимательно смотрели с мозаичных икон святитель Алексий Московский и преподобный Иосиф Волоцкий. Прихожан в соборе на то время было совсем немного.
—Скажите, отец Георгий, а в школьные и последующие годы кем хотели быть? Как складывалась жизнь? Собирались ли Вы быть священником?
—Если честно, то я мечтал об авиации. Папа работал на аэродроме и иногда брал меня с собой. Курс средней школы закончил в Республиканской спортивной школе-интернате г. Минска, которая на то время находилась на ул. Тарханова, что напротив Комсомольского озера. Занимался легкой атлетикой. Школа готовила сборную Белоруссии для участия в Спортакиаде народов СССР. Там же, в Минске, в 1976 году я подал заявление в районный военкомат о поступлении в Черниговское военное авиационное училище, где готовили летчиков-истребителей, но из-за роста (оказался «длиннее» на 2 сантиметра) забраковали. Далее работал в Барановичах на авиационном заводе. Был и слесарем, и гальваником, и радиомехаником.
В 1978 году был призван в ряды Вооруженных Сил. Служил в Москве, а по возвращении домой через некоторое время поступил в Ленинградское Арктическое училище. Захотелось романтики… Дело в том, что там готовили специалистов для работы в Антарктиде и Арктике, а также на научно-исследовательских судах погоды. Училище находилось в Константиновском дворце, что в Стрельне, известном месте Петродворцового района (ныне—резиденция Президента России).
Во время учебы не раз приходилось выходить на практику в Финский залив для различных исследований. Особенно запомнилась поездка на Чукотку, в Певекское управление, где практиковался на труднодоступной полярной станции «Валькаркай» в Восточно-Сибирском море, почти рядом с Аляской. О красоте и суровости этого края можно говорить бесконечно. Сильные ветра (до 40 и более метров в секунду), мороз, снег, необъятные льды, северное сияние… Но особенно запомнилась Арктика своим животным миром—миром птиц, водоплавающих и т.д.
 Вообще, за период учебы в Ленинграде, Бог дал уникальную возможность очень близко ознакомиться с достопримечательностями и историей города, его современностью. Такое в глубине души остается навсегда. И конечно же, самым необходимым для меня было посещение храма. Я часто ходил в Александро-Невскую Лавру. Ленинградскую епархию тогда возглавлял митрополит Антоний (Мельников). Училище наше было режимным (соответствующая форма одежды, контроль за выходом в город и т.д.), потому приходилось переодеваться в гражданку и незаметно уходить в «увольнение». В лаврском соборе я всегда старался стать так, чтобы меня особо никто не видел (людей было не так уж много). К счастью, в храме шел капитальный ремонт, и кругом стояли леса… Получалось так, что я всегда оказывался напротив раки святого благоверного князя Александра Невского. Однако мои старания быть незамеченным оказались тщетными. Как-то раз подходит ко мне пожилая женщина. Завязался разговор, из которого понял, что она давно наблюдает за мной. Оказалось, что она работает секретарем начальника нашего училища. Слава Богу, она была верующим человеком. Мы с ней остались хорошими друзьями, как и со многими другими прихожанами Александро-Невской Лавры.
Вообще, за период учебы в Ленинграде, Бог дал уникальную возможность очень близко ознакомиться с достопримечательностями и историей города, его современностью. Такое в глубине души остается навсегда. И конечно же, самым необходимым для меня было посещение храма. Я часто ходил в Александро-Невскую Лавру. Ленинградскую епархию тогда возглавлял митрополит Антоний (Мельников). Училище наше было режимным (соответствующая форма одежды, контроль за выходом в город и т.д.), потому приходилось переодеваться в гражданку и незаметно уходить в «увольнение». В лаврском соборе я всегда старался стать так, чтобы меня особо никто не видел (людей было не так уж много). К счастью, в храме шел капитальный ремонт, и кругом стояли леса… Получалось так, что я всегда оказывался напротив раки святого благоверного князя Александра Невского. Однако мои старания быть незамеченным оказались тщетными. Как-то раз подходит ко мне пожилая женщина. Завязался разговор, из которого понял, что она давно наблюдает за мной. Оказалось, что она работает секретарем начальника нашего училища. Слава Богу, она была верующим человеком. Мы с ней остались хорошими друзьями, как и со многими другими прихожанами Александро-Невской Лавры.
Время учебы пролетело быстро. И вот—госэкзамены. Но выпуск омрачился печальным известием о кончине владыки Антония. Сразу же после сдачи экзамена я приехал в Лавру, но, к сожалению, на погребение не успел. Все уже расходились… На душе было печально. Вдруг вижу нашего Митрополита Филарета, а вместе с ним наместника Жировицкого монастыря архимандрита Константина (Хомича). От этой неожиданной встречи моя скорбь смягчилась внутренней радостью: здесь, вдали от дома, я увидел такие близкие для верующего сердца лица. Очень хотелось подойти, но постеснялся.
Несмотря на то, что погребение уже закончилось, народ все еще подходил и подходил к деревянному кресту на могиле Владыки Антония. То же сделал и я. Интересно, что после этих событий во мне еще более укрепилось внутреннее желание посвятить свою дальнейшую жизнь служению Господу.
Надо отметить, что параллельно с учебой мне удалось перечитать и частично законспектировать многие произведения Достоевского, Гоголя, Гюго и других классиков, ведь духовной литературы почти не было. Именно здесь я находил для себя утешение, утоляя духовную жажду. В один из отпусков я познакомился с благочинным Жировицкого монастыря архимандритом Стефаном (Корзуном) и далее руководствовался его духовными наставлениями. Время учебы закончилось, и по распределению в 1986 году я попал на Камчатку, получив диплом океанолога и звание офицера флота в запасе. После выпуска приехал в Жировицы с просьбой благословить на поступление в МДС, на что отец Стефан ответил: «Сначала, езжай—отрабатывай». С собой я взял Евангелие, молитвослов, бутылочку со святой водой (она разбилась потом при загрузке багажа в самолет), мешочек высушенных просфор, несколько икон, а также необходимые вещи.
Прилетел к вечеру. Вот и Петропавловск-на-Камчатке. Было очень туманно, слякоть. Сначала сказали, что в гостинице мест нет, но потом одно все-же нашлось. Лег спать, но быстро проснулся (разница во времени—9 часов), да еще за окном по жестяному подоконнику дождь кап да кап. Думаю: «Учился—и для чего? Куда меня занесло, дальше и некуда—край света. Ни родных, ни близких. И так все мрачно! А впереди еще три года…». Однако, к утру все же заснул.
 Проснулся—красота! Небо в зените лазурно-синее. Солнце, как никогда, ослепительно яркое. Водная гладь Авачинской бухты, окруженной живописными сопками и седыми скалами со множеством кораблей, а вдали слегка дымятся снежные вершины вулканов. Осень, а вместе с ней неподдающийся описанию колорит осенней листвы… Все это надо видеть. Я пошел к одной из сопок (Никольской) и увидел на ней прекрасную часовенку, но, к сожалению, в запущенном состоянии. Это место потом стало моим любимым, местом моих молитв и размышлений. Видя такую красоту и почувствовав, что именно здесь—край земли русской, душа моя в восторге запела: «Слава Тебе, Господи!». Мне выделили жилье, показали место работы. Дом оказался приземистый, барачного типа, явно требующий капитального ремонта. Удобств никаких. Соседям меня представили как «кандидата наук» (для «устрашения», чтобы были посмирнее) и предупредили, что если будет хоть одна жалоба в их адрес, то они будут выселены милицией. Но, несмотря ни на что, мои новые знакомые почти каждую ночь вели «веселую» жизнь…
Проснулся—красота! Небо в зените лазурно-синее. Солнце, как никогда, ослепительно яркое. Водная гладь Авачинской бухты, окруженной живописными сопками и седыми скалами со множеством кораблей, а вдали слегка дымятся снежные вершины вулканов. Осень, а вместе с ней неподдающийся описанию колорит осенней листвы… Все это надо видеть. Я пошел к одной из сопок (Никольской) и увидел на ней прекрасную часовенку, но, к сожалению, в запущенном состоянии. Это место потом стало моим любимым, местом моих молитв и размышлений. Видя такую красоту и почувствовав, что именно здесь—край земли русской, душа моя в восторге запела: «Слава Тебе, Господи!». Мне выделили жилье, показали место работы. Дом оказался приземистый, барачного типа, явно требующий капитального ремонта. Удобств никаких. Соседям меня представили как «кандидата наук» (для «устрашения», чтобы были посмирнее) и предупредили, что если будет хоть одна жалоба в их адрес, то они будут выселены милицией. Но, несмотря ни на что, мои новые знакомые почти каждую ночь вели «веселую» жизнь…
Время шло, а меня постоянно тревожил лишь один вопрос: где здесь православный храм? В свободное время я пытался его найти. Все очень удивлялись, когда спрашивал про церковь. Храма не оказалось, и я постоянно поднимался на Никольскую сопку к часовенке и читал акафисты. Через несколько месяцев одна моя сотрудница сказала, что видела домик с вывеской «Церковь Петра и Павла». Поехал, посмотрел—действительно домик, а на стене табличка с надписью «Храм святых апостолов Петра и Павла города Петропавловска-Камчатского». При входе над дверью прикреплен восьмиконечный крест. Я стоял, как вкопанный… После многих переживаний и долгих поисков, что придется все три года жить без церковного окормления, этот домик явился для меня настоящим оазисом в бездуховной пустыне моего временного пребывания. Решил, что где-то рядом должен жить батюшка, как у нас в Белоруссии. Но священник жил в другом месте. Я постучал. Батюшка встретил меня совсем недружелюбно. Дело в том, что ему постоянно не давали покоя хулиганы. Но когда он увидел меня на службе, то проникся теплотою. Как потом оказалось, отец Ярослав Левко учился в Московской Духовной Семинарии вместе с протоиереем Геннадием Повным и в соседнем классе с архимандритом Леонидом (Филь), Ректором МинДАи С. Внутри этот домик, оборудованный под храм, был без стенных перегородок. Алтарь, отгороженный фанерой, находился в дальнем левом углу.
Когда пришел второй раз на службу, ко мне подошли из церковного совета и предложили подежурить, т.е. посторожить храм, протопить котел и т.д. Я был приятно удивлен, что доверили ключи, а сердце наполнилось радостью. Дежурить в церкви очень нравилось. Как правило, в неделю—один раз, а то и больше. Почистишь снег, заготовишь топливо, нагреешь котел, приберешься. Сам себе, в тишине и молитве. Все это располагало к духовному образу жизни, даже начали посещать мысли о монашестве. Прихожане—в основном люди пожилого возраста. Пришло время, и батюшка благословил меня в пономари. А позже предлагали избрать старостой. Я написал родителям, но они посоветовали воздержаться, потому что эта должность обязывала оставаться на Камчатке, а в мои планы это не входило. Порой, когда ехал в церковь, то удивлялся про себя: «Столько народа, и никому не нужен ни Бог, ни церковь». Со временем люди начали приходить в храм. Но в основном, пожилые. Я со многими подружился. Они меня считали за сына: кормили, поили чаем, беседовали, утешали.
В канун празднования 1000-летия Крещения Руси появилась возможность (впервые за 50 лет) посетить Камчатку правящему архиерею. Приезд архиепископа Хризостома (ныне—митрополит Виленский и Литовский) для нас был, как вторая Пасха. Все неизреченно радовались визиту Владыки. Архиепископ Хризостом отслужил Божественную Литургию и молебен, по окончании которого им были сказаны теплые слова напутствия. Владыка уехал, а мы еще долго жили этой встречей…
Со временем мои мысли о монашестве растаяли, как весенний снег. Я решил жениться. Со своей будущей женой работали вместе. Написал отцу Стефану и получил его благословение. Моя невеста тогда была еще в комсомоле. Я предложил ей все это бросить. Самые идейные девчата сочувственно говорили: «Чтобы замуж выйти, она комсомол бросила, а он—белорус, в Бога верит, и она туда поедет. Какой мрак, какой ужас!». В 1988 году в день Покрова Пресвятой Богородицы венчались. Для многих, особенно в нашем управлении, подобное было в диковинку (наше венчание оказалось третьим в камчатской церкви за весь безбожный период). Близился 1989 год. Я собирался к отъезду на материк для поступления в Московскую Семинарию, но тут из Жировиц сообщили, что при монастыре возобновляет свою деятельность Духовная Школа. С Божьей помощью поступил на первый курс МинДС. Жена до времени осталась на Камчатке, но потом и она приехала. Жили на квартире.
—А что Вы можете рассказать о учебном процессе, о взаимоотношениях между преподавателями и студентами, между самими студентами?
 —Ситуации были иногда и нестандартные, ведь люди поступали разные, и порой ими вносился определенный негатив в студенческую среду. Среди старших возрастом нашелся один, который решил вспомнить армейскую «дедовщину». Дело дошло до отца Ректора, и архимандрит Стефан, несмотря на то, что тот человек до поступления служил псаломщиком на приходе (а в те времена такое встречалось не часто), просто сказал: «Экзамены ты сдал, но поведение твое не соответствует пребыванию в Духовной Школе». Вроде жестко, но с другой стороны, это было необходимо. Духовная Школа должна быть именно духовной. И самое главное здесь—дисциплина. Глядя на это, все поняли, что никто ни с кем шутить не собирается.
—Ситуации были иногда и нестандартные, ведь люди поступали разные, и порой ими вносился определенный негатив в студенческую среду. Среди старших возрастом нашелся один, который решил вспомнить армейскую «дедовщину». Дело дошло до отца Ректора, и архимандрит Стефан, несмотря на то, что тот человек до поступления служил псаломщиком на приходе (а в те времена такое встречалось не часто), просто сказал: «Экзамены ты сдал, но поведение твое не соответствует пребыванию в Духовной Школе». Вроде жестко, но с другой стороны, это было необходимо. Духовная Школа должна быть именно духовной. И самое главное здесь—дисциплина. Глядя на это, все поняли, что никто ни с кем шутить не собирается.
Отношения друг с другом были, в основном, теплые, дружеские. Почти все поступившие, как говорится в народе, «видели жизнь»: кто-то учительствовал, был военным, инженером, учился на врача и т. д. Многие имели семьи. И тут представилась возможность получить духовное образование здесь, дома, на белорусской земле. Сколько было радости у всех—словами не передать. Некоторые даже плакали. Все благодарили Бога, Матерь Божию и, конечно же, Владыку Филарета, чьими нелегкими трудами и отеческой заботой в Беларуси была открыта Духовная Школа, на то время—4-я по счету Семинария в РПЦ после Московской, Ленинградской и Одесской. Сегодня, когда слышишь: «Это не то, а это не так», то просто неприятно становится. В наше время так не было. Была радость, что Школа открылась. Кормят, обувают, одевают (даже костюмы пошили), спать положат, учителя приезжают, учат. Что еще надо было нам, стремившимся к духовным знаниям? А учиться очень хотелось. Между нами царили взаимопонимание, любовь и взаимовыручка. Работа—значит работа, в поле—так в поле. Каких-то грубых нарушений почти не наблюдалось.
—Когда Вы приняли священный сан?
—8 января 1990 года Высокопреосвященнейшим Филаретом, Митрополитом Минским и Гродненским, Патриаршим Экзархом всея Белоруссии я был рукоположен во диакона, а 12 февраля (в актовый день Семинарии)—во иерея. В начале августа этого же года получил назначение на приход в село Глинная Ивацевичского благочиния Пинской епархии. По благословению руководства Семинарии со второго курса нес послушание дежурного помощника инспектора. На приходе была организована воскресная школа. Детишек вначале ходило до 90 человек. Сегодня один из тех ребят—священник (закончил МинДС).
—Отец Георгий, с каким чувством Вы расставались с Семинарией?
—С чувством бесконечной благодарности и глубокого сожаления о том, что время, проведенное здесь, уже не повторится.
—Что изменилось в жизни Семинарии и семинаристов?
—После окончания Семинарии прошло тринадцать лет. Чувствуется высокий образовательный уровень ребят, их всесторонняя подготовка. Да и возможности у них сейчас другие. Профессорско-преподавательская корпорация значительно увеличилась. Многие выпускники МинДА и С уже и сами преподают. Думаю, не стоит даже и говорить о великолепных условиях для учебы, отдыха и быта у нынешних студентов. На глазах все преображается, совершенствуется. Однако хотелось бы обратить внимание и на некоторые негативные моменты. Порой видишь в аудиториях исцарапанные или исписанные столы, а в ящиках парт—почти мусорку. Спрашивается: чему ты здесь учишься? Невольно возникает и следующий вопрос: а как на приходе поведешь себя? Надо помнить, что многое, окружающее нас в Духовной Школе, создано на людские пожертвования, и ценить это.
—Матушка, когда Вы познакомились с отцом Георгием, не испугало то, что он был верующим человеком?
—Живя на Камчатке, где около 50 лет при населении около полумиллиона человек вообще не было ни одного храма, я и мои сверстники все равно стремились к чему-то светлому и доброму. Бога носила всегда в своем сердце. Выезжая порой с родителями на материк, приходила в храм. Когда встретила своего будущего мужа, то меня ничуть не испугало, что Георгий—верующий. Наоборот, в трудные минуты я чувствовала моральную поддержку с его стороны.
—Когда выходили замуж, знали, что Георгий будет священником?
—Да. Он мне сразу сказал: «Я собираюсь поступать в Духовную Семинарию, а потому не могу обещать удобств в жизни. “Куда иголка, туда и нитка”, а посему придется тебе оставить отчий дом и следовать за мужем». Золотых гор не обещал, и по сей день у меня к нему претензий нет.
—Скажите, что самое сложное для Вас как для жены священника?
—Я думаю, что самое главное—иметь терпение и послушание. По возможности, больше молчать. Священник служит Богу и людям, а это сопряжено с различными ситуациями. Всякое бывает. Батюшка в общении с людьми сдерживает себя, а дома может высказаться, и я порой остаюсь крайней…
—Женщины в современном мире требуют свободы, а Вы говорите о смирении, о послушании. Много ли потеряли, став женой священника?
—Я стала помощницей батюшки. Многие его проблемы и радости становятся и моими. У нас одна общая забота—приход. Жить для Бога и людей—в этом мне и видится истинная свобода в этой суетной жизни. Здесь я не теряю, как обманчиво считают в современном мире, а приобретаю. Кругом люди с наболевшими вопросами, бесконечные звонки, просьбы и т.д., и всем хочется помочь, уделить внимание. Делая это, обретаешь «то, что моль не подточит и ржа не съест».
Беседовали
иерей Георгий Рой
и Бубнов П. В.
Просмотрено: 224 раз.